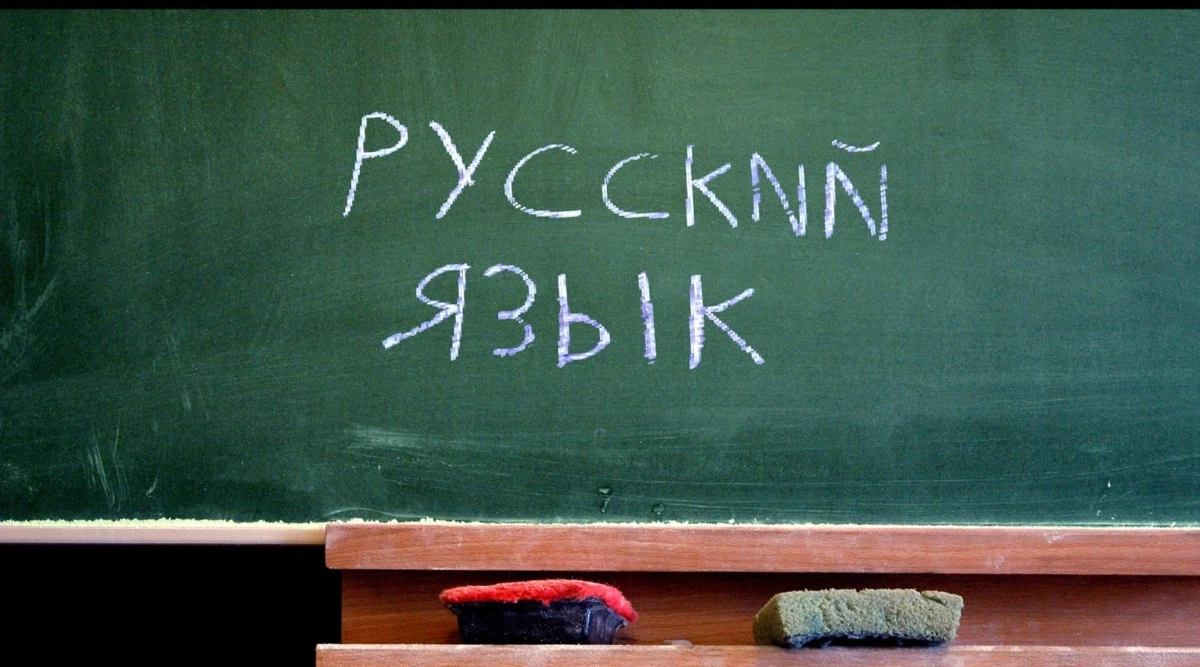Совсем недавно, 12 января, отмечалась очередная годовщина со дня рождения Динмухамеда Кунаева. Помимо публикаций комплиментарного характера, были и такие, в которых многолетнего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана критиковали, причём довольно резко, за то, что именно при нём политика русификации в нашей республике приобрела особенно масштабный характер. Но насколько справедливы такие обвинения, и действительно ли ответственность за это лежит только на Кунаеве и других представителях высшего политического руководства Казахской ССР?
С тем, что в советский период процесс русификации у нас пустил более глубокие корни, чем в других союзных республиках, вряд ли можно поспорить. Как и с тем, что казахстанские лидеры особо ему не противились. Однако при этом нельзя не учитывать два очень важных фактора: первый – этнический состав населения, второй – позиция национальной интеллигенции. Ведь последняя тогда, в 1960-1980-е годы, в отличие от дня сегодняшнего, имела возможность (другой вопрос: была ли готова?) оказывать влияние и на умонастроения в обществе, и на принятие решений в сфере культурного строительства, в том числе в языковой.
Посмотрите на результаты всесоюзной переписи, проведённой в 1970-м. В нашей республике доля казахов не достигала даже трети (32,4 процента), тогда как русских было 42,8, а в целом славянского населения (с учётом украинцев и белорусов, тоже почти поголовно говоривших на языке Пушкина) – 51,3 процента. Для сравнения: в соседнем Узбекистане соотношение «титульных» и славян составляло 64,7 и 13,6, в Грузии – 66,8 и 9,7, в Азербайджане – 73,8 и 10,6, в Литве – 80,1 и 10,8 процента... С данным обстоятельством руководству Казахской ССР, конечно, приходилось считаться.
Численный перевес носителей того или иного языка влиял даже на поведение обычных жителей отдельно взятых регионов. Если, например, на севере нашей республики или в Алма-Ате нередко бывало, что недалёкие и хамоватые люди, мягко говоря, неадекватно реагировали на казахскую речь в автобусе или магазине, то в южных областях, где «титульные» составляли большинство, на такое мало кто решался. Напротив, аксакалы могли сделать замечание молодёжи, общавшейся в публичных местах на русском: мол, вы так скоро родной язык забудете. И тем более в масштабах всей Казахской ССР её властям приходилось считаться со специфичным этническим составом населения, учитывая его при проведении языковой политики.
При этом нужно отметить, что лишь в трёх закавказских республиках языки «титульных» этносов имели статус государственных. В Конституциях остальных, даже прибалтийских (во всяком случае, от 1978 года), составленных, можно сказать, по единому шаблону, такая запись отсутствовала. Везде гарантировались только «возможность обучения в школе на родном языке», «возможность пользоваться родным языком и языками других народов СССР». Небольшие расхождения были лишь там, где речь шла о языке судопроизводства. В казахстанской Конституции говорилось, что оно осуществляется «на казахском или русском языках, или на языке большинства населения данной местности», а, например, в Основном законе Узбекской ССР отсутствовало упоминание о русском, но добавлялся каракалпакский. Скорее всего, это было вызвано как раз таки различиями в национальном составе населения республик и направлено на создание удобств гражданам.
Да и закавказским народам норма о государственном статусе их языков далась непросто. Например, в Грузии (нелишне будет напомнить, что при Иосифе Джугашвили-Сталине отношение к ней было особенным) она присутствовала, начиная с 1937-го. Но весной 1978-го, когда во всех республиках готовились принять новые Конституции (вслед за общесоюзной, утверждённой в октябре предыдущего года), газета «Заря Востока», орган ЦК Компартии Грузии, опубликовала проект Основного закона, где, в частности, говорилось: «Грузинская ССР обеспечивает употребление в государственных и общественных органах, культурных и других учреждениях грузинского языка и осуществляет всемерную заботу о его развитии… Обеспечивается свободное употребление во всех этих органах и учреждениях русского, а также других языков населения, которыми оно пользуется». С одной стороны, грузинский шёл в списке первым, а значит, вроде бы оставался приоритетным, но, с другой, он лишался статуса государственного языка.
Это вызвало серьёзное недовольство коренного населения. Во главе протеста встали представители национальной интеллигенции, которые начали бомбардировать партийные органы и редакции газет возмущёнными письмами. Наибольшую активность проявил академик-лингвист Акакий Шанидзе. А дочь кинорежиссёра и директора киностудии «Грузия-фильм» Резо Чхеидзе (именно он снял знаменитую картину «Отец солдата» с Серго Закариадзе, которая получила премии на множестве кинофестивалей) по имени Тамрико, учившаяся в Тбилисском государственном университете, стала главным организатором студенческих акций. И 14 апреля 1978-го в столице республики прошла массовая (мирная) демонстрация, на которую собрались около ста тысяч человек. Перед ними выступил Эдуард Шеварднадзе, первый секретарь ЦК Компартии Грузии, который признал их требование справедливым и объявил, что конституционная норма, касающаяся языка, будет сохранена в прежней редакции. То есть, власть была вынуждена прислушаться к мнению масс.
Иначе обстояло дело в Азербайджанской ССР. В её Конституции от 1937-го статус языка коренного народа (кстати, азербайджанским его официально стали называть лишь годом ранее, а до этого он именовался тюркским) не был прописан. Но во второй половине 1950-х, когда наступила хрущёвская «оттепель», Верховный совет республики принял решение считать его государственным. Инициатива исходила от национальной интеллигенции, а в роли главного закопёрщика выступил 47-летний писатель и академик-филолог Мирза Ибрагимов, который в тот период был ещё и председателем президиума Верховного Совета, или, говоря по-современному, спикером парламента. Первый секретарь ЦК Компартии (фактический глава) Азербайджанской ССР Имам Мустафаев поддержал это начинание, и депутаты ВС соответствующим образом проголосовали.
Чуть позже оба, и Ибрагимов, и Мустафаев, обвинённые Москвой в «своеволии» и неправильном понимании национального вопроса, лишились своих постов. Но норма о статусе азербайджанского языка как государственного осталась и в 1978-м благополучно перекочевала в текст новой Конституции. При этом Ибрагимов всего через пару лет после своей отставки был удостоен звания «Народный писатель Азербайджана», ещё через четыре года возглавил Союз писателей республики, а впоследствии стал Героем Социалистического труда (это звание присуждала исключительно Москва). Иначе говоря, гонениям он не подвергался. То же самое с Шанидзе: он остался членом-корреспондентом Академии наук СССР, продолжал преподавать в университете. Кинорежиссёр Чхеидзе, дочь которого собирала студентов на демонстрацию, спустя два года после событий 1978-го получил звание народного артиста СССР, а чуть позже главную в Союзе премию – Ленинскую.
Словом, во времена правления Хрущёва и Брежнева активность представителей национальной интеллигенции союзных республик на языковом фронте пусть и не поощрялась центром, но и не преследовалась. Соответственно там, где они проявляли настойчивость и хотя бы немного смелости, можно было решить даже проблемы, связанные с конституционными изменениями. Не говоря уже про гораздо менее принципиальные с политической точки зрения вещи – например, открытие дополнительных общеобразовательных школ, отделений в вузах и техникумах с обучением на родном языке, расширение издания на нём газет и журналов и т.д.
Но вот вопрос: проявляли ли казахские «зиялы қауым» такую настойчивость и смелость? Пытались ли оказывать влияние на политическое руководство республики, чтобы оно занимало более национально ориентированную позицию, как это делали их коллеги в том же Азербайджане или Грузии? Вообще, в поздний советский период наша интеллигенция как-то боролась за «ана тілі» или просто плыла по течению, боясь сказать слово в его защиту? Вопросы, можно сказать, риторические.
Например, сегодня чуть ли не рефреном звучит претензия по поводу того, что в советской Алма-Ате была всего одна школа (на самом деле их было две), где обучение велось на казахском языке. Но Москва ли в этом виновата? Она, что, ввела такое ограничение – гласное или негласное? Вопросы подобного рода решались сугубо на местном уровне, и если бы казахская элита (а все её «сливки» были сосредоточены в тогдашней столице республики) настояла на открытии дополнительных школ и, что тоже очень важно, выразила готовность отдать в них собственных детей и внуков, то её пожелание или требование наверняка бы учли.
Однако значительная часть национальной интеллигенции, будучи сама казахскоязычной, предпочитала давать своим чадам образование на русском, считая, что в этом случае им легче будет сделать карьеру, стать «большими людьми». Мало того, многие из «зиялы қауым» поздней советской эпохи не удосужились привить своим детям знание родного языка хотя бы на бытовом уровне, воспитав их самыми настоящими «шала-казахами». Что, однако, не помешало им после обретения Казахстаном независимости объявить себя активными радетелями за «ана тілі» и начать клеймить политику русификации...